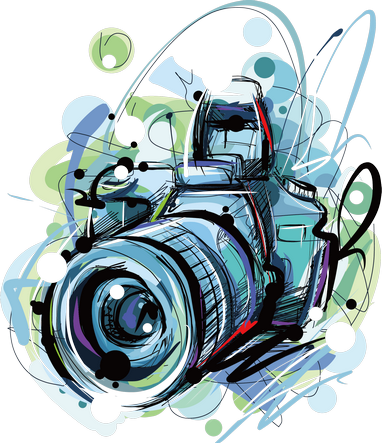Элеонора Шафранская
Ташкент – многоязычная окраина Российской империи со второй половины XIX и в ХХ вв. – говорил, тем не менее, на русском языке. Языковое поле города породило разные грани русского языка. Это и правильный, книжный, русский язык, не обремененный ни интонационными, ни диалектными традициями – на лекциях филфака ТашГУ нам говорили, что русская речь ни Москвы, ни Питера не является «чистой», будучи отягощенной фонетическими/интонацтонными и прочими традициями, а вот привнесенная в Ташкент в конце XIX в. русскими аристократами и позже – книгами и медийным вещанием, она сформировала своего рода «лабораторный», очищенный русский язык.
«Пообкатавшись», русский язык Ташкента, конечно, с течением времени тоже получил свою специфику, смешавшись с маргинальной иноязычной традицией: вот как об этом пишет Дина Рубина в своем «ташкентском» романе: «Она… перенимала манеру говорить в нос, презрительно растягивая гласные, – неистребимый говорок ташкентской шпаны».
«Русское ухо» ташкентца четко улавливает узбекскую речь, отличает от нее казахскую, киргизскую, татарскую – родственные тюркские языки (причем человек может не владеть ни одним из этих языков, кроме русского, – таков феномен), в отличие, например, от русского человека Москвы или средней полосы России, для которого «черный» и инакоговорящий – «лицо кавказской национальности». Узбекские слова порой удобно устраивались в ташкентской русской речи: например, базар в центре города, официально названный Воскресенским, в народе назывался «Пьян-базар»: то ли от узбекского «пиён» (пьяный), то ли от «пиёда» (пеший), т. е. «пешеходный», но в сознание старожилов города вошел как «Пьян-базар». А вот как обыгрывается русско-узбекский языковой симбиоз в анекдотах Ташкента: «Шукурыч спрашивает: – Знаешь, как по-узбекски будет “безбилетный пассажир”? Нет? – Заяц-адам», – пишет Михаил Книжник в своей «Записной книге» (одам/адам – по-узбекски «человек»).
Русская речь ташкентских узбеков также неоднородна:
– это была «правильная» речь коренных ташкентцев: «Ты, говорят, человек грамотный, в русской школе в райцентре учился и четыре года у русской библиотекарши по ночам гостил, рассуди…» (из повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки»); «На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза… < …> …он говорил по-русски правильно, пожалуй, слишком правильно, с лекционными интонациями» (из повести Дины Рубиной «Камера наезжает!..»);
– это особый русско-узбекский жаргон «пришлых», которых сами узбеки называют харыпами. Слово «харып», происходит, возможно, от узбекского слова «хароб» – разорившийся, нищий, влачащий жалкое существование. На вопрос, кто такие «харыпы», информант ответил: «Во-первых, все ТэШэвые (номера на областных машинах в советское время сопровождались буквами ТШ, а на городских – ТН), во-вторых, все самаркандские, ферганские и прочие» [Инф.: Алевтина Ш.]; другой информант дал «энциклопедическую справку»: «Жлоб, деревенщина, венец бескультурья, приезжий из кишлака люмпен с манерами Маугли. Известная писательница Виктория Платова однажды написала, вспоминая свой Восток: “Харып – больше, чем жлоб. Это жлоб в квадрате, он наливает ирландский ликер в граненые стаканы…”» [Инф.: Павел Ш.].
В повести Дины Рубиной «Камера наезжает!..» есть фрагмент о преподавании героиней «аккомпанемента» в Институте культуры, куда ежегодно по плану, спущенному «сверху», рекрутировали способных «пастухов», на местном жаргоне – «харыпов». В языковом поле этого фрагмента воспроизведена особая русская речь, мифологизируемая в повседневности как русских, так и узбеков, владеющих русским языком: «– Что я вам задавала на дом? < …> – Шуман. Сифилисска пессн… < …> Он суетливо доставал из холщовой, неуловимо пастушеской сумки ноты “Сицилийской песенки”. – Читайте! …он старательно прочитывал: “Си-си-лисска песс…”». О таком уровне владения русским языком в Ташкенте говорили фразой: «твоя-моя». Когда героиня Рубиной сама попадает в пространство чужого языка, то вспоминает ту давнюю «сифилисску пессн»: «Я полагаю, что человек за все должен ответить. < …> Я с трудом читаю заголовки ивритских газет, и моя собственная дочь стесняется меня перед одноклассниками. Это мне предъявлен к оплате вексель под названием “сифилисска пессн”».
Русская речь ташкентцев в определенных ситуациях, чаще для придания комизма, порой намеренно ломает язык, имитируя русскую речь узбеков – вот распространенный среди школьников 70-х узбекско-русский «ремейк» басни Крылова:
«Один несчастный, мокрый стрекозешка
Ползет к трудолюбивой муравьешка:
– Муравьешка, Муравьешка,
Бир менга кусок ляпешка!..
Муравьешка отвечал:
– Ты все лето пел?
– Пел.
– Танцевал?
– Танцевал.
– Чайхана сидел?
– Сидел.
– Ляпешка кушал?
– Кушал.
– Тамар-Ханум слушал?
– Слушал.
Так теперь иди –
Ансамбль Моисеева пляши!»
[Инф.: Zimmermann].
В русском фольклоре Ташкента родились комические номинации сказочных/обрядовых образов – аналогов русских персонажей: «Кошмар-апа – Баба Яга; Автоген-ака – Змей Горыныч; Саксаул-бола – Буратино; Джаляб-кыз – Снегурочка; Колотун-бобо – Дед Мороз» [Инф.: Алексей Л.].
Бабай, или бобой, – частое слово в русском языке Ташкента, так называют мужчину-узбека, чаще в ироническом контексте. Из бытового рассказа: «Когда я была маленькая, у нас в детсаду разучивали узбекскую песенку про Ленина, и там был припев: “Ленин-бободжоним, Ленин-бободжон!”» [Инф.: Медора Б.].
«Коктейлем» русско-узбекско-еврейского фольклора можно считать и такой бытовой анекдот: «Захожу в одно знатное учреждение в Ташкенте. В вестибюле огромный стенд с шапкой: “Мен – демократман!” (Я – демократ!) Передовая статья называется: “Мен – депутатман!” (Я – депутат!). Конечно, я поневоле начал искать глазами подпись “Мен – Зильберман”...» [Инф.: Алексей Л.].
Комична нестыковка возвышенного пафоса известных литературных фраз и их перевода – этот «казус» тут же приобретает фольклорную жизнь: в Ташкенте ходил анекдот о том, что Чацкий из «Горя от ума» – пьесы, шедшей в ташкентском драматическом театре им. Хамзы на узбекском языке, – финальные слова произносил так: «Арба менга, арба!» / «Карету мне, карету!» [Инф.: Нора А.].
Русскоговорящие ташкентцы живут в пространстве слов и понятий, называемых в научных текстах этнографизмами: русские так сживаются с ними, что, попадая в российское языковое поле, встречают недоумевающие взгляды собеседников. Среди таких этнографизмов наиболее частые:
– махалля (что синонимично русской «деревне» или русско-еврейской «мишпухе»; хотя махалля – это жилой квартал частных застроек (таково было наполнение слова в прежние времена); в «доперестроечное» время о ком-либо говорили: он живет в махалле – это значило, что человек из «одноэтажного» района с узбекским населением); дувал; каса/коса –ташкентские русские часто говорят касушка (узбекский корень и русский суффикс); курпача; курт (если российский любитель пива купит на «закусь» воблу, то житель Ташкента –– это «маленькое белое соленое яблочко» (из повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки) – местный русский фольклор содержит по этому поводу «крамолу»: якобы изготовители курта «катают его под мышками»; а вот из частного рассказа бывшего ташкентца: «Мне в Германию привезли из Ташкента 10 шариков курта. Случилась оказия в Америку, и решила я передать половину своей подруге в Майями. “Курьер” беспокоится: что он скажет, если спросят на таможне? Говорю ему: положи в багаж. Он не успокаивается: а если проверят в багаже? Говорю: скажи, что это узбекский пармезан» [Инф.: Zimmermann]; ляган/лаган; пиала – в связи с этой посудой для чая надо отметить, что у каждого «чаепьющего» народа свой ритуал заваривания чая: узбеки заваривают его в заварочный чайник и из него же разливают чай по пиалам, заканчивается – заваривают новый (в отличие, например, от русского ритуала, где напиток «чай» создается из двух жидкостей: немного заварки из чайника разбавляется в чашке кипятком). «Потом хозяин дома стал заваривать зеленый чай, и все примолкли, наблюдая, как он отливает немного в пиалу, заливает обратно в чайник и ждет, положив салфетку на крышку чайника... Никто не поинтересовался – к чему эти сложные манипуляции: за столом сидели одни ташкентцы...» (из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы»). Недоумевающая по поводу «странного» ритуала заваривания чая неташкентская публика подвигла на рождение в фольклоре Ташкента анекдота: «Брежнева, прибывшего с официальным визитом в свою вотчину, Узбекистан, Рашидов угощает чаем: налив полпиалы и сделав круговое движение горячей жидкостью, вылил ее назад, в чайник. Спустя минуту налил в ту же пиалу. Собирался налить во вторую, для Брежнева, тот же нетерпеливо успел заметить: “Шараф, и мне помой тоже”» [Инф.: Нора А.]. Такой ритуал заваривания чая в русском языке Ташкента называют кайтарыш – от глагола қайтармоқ, или қайтаришмоқ – возвращать.
К чаю покупают/подают не карамель, а парварду – конфетки белого цвета, в виде «подушечек», продаваемые на вес, без обертки, изготовленные из карамельной массы: мука и сахар. Ташкентцы чаще едят не пирожки, а самсу/сомсу, выпеченную в тандыре или в духовке: с мясом, с тыквой, с зеленью: треугольные, четырехугольные; на базарах торговцы выкрикивают: «Закяз-самса, закяз-самса», что значит – заказная самса, то есть изготовленная по спецзаказу, отменная. Из приватного рассказа: «Когда мы собрались уехать из Ташкента, то, как и все, по воскресеньям выезжали на блошиный рынок в казахский Сары-Агач (недалеко от города), чтобы распродать домашнюю утварь. Накануне мне звонит мама и спрашивает, едем завтра или нет, говорит, что она уже самсу испекла. Я (не поняв, что целый день на базаре – есть-то что-то надо) удивился – что, продавать? – представив себе, как буду выкрикивать: “Закяз-самса! Закяз-самса!”».
Высшее лакомство и в будни и в праздники на столах ташкентцев – юсуповские помидоры – в повседневности так называют большие, крупные помидоры розового и красного цвета неправильной формы, сладкие на вкус: «По поводу юсуповских помидоров… Этот сорт культивировали в колхозе Усмана Юсупова, кстати, личного друга Хрущева» [Инф.: Володя Ч.].
Если спят, едят русские с учетом узбекского «сюжетного пространства», то что они носят? В официальной жизни – европейскую одежду, как и большинство узбеков, но в частной – чапан/чопон – стеганый на вате халат без воротника: его можно носить зимой – от холода, летом – от жары; чапан бывает обыденным, бывает праздничным – расшитым золотой нитью или стеганным по парче. Когда 1960–80-е гг. студенты проводили на хлопковых полях по два месяца, это была очень удобная, ни к чему не обязывающая одежда. Вот как описал «оппозицию» между европейской одеждой и чапаном писатель Андрей Волос (рисуя, правда, не узбекские, а таджикские реалии): «Почему пиджак?! – брызгая слюной, заорал вдруг один из них, упираясь в Камола сумасшедшим взглядом белых глаз. – Костю-ю-ю-юм!! Почему-у-у-у!! Его обступили здесь же – словно сжался кулак и всеми пятью пальцами обхватил вожделенный предмет. – Ты не таджи-и-и-ик! – кричал белоглазый, содрогаясь. – Таджик должен носить чапа-а-а-ан! Русская сволочь!..» (из романа Андрея Волоса «Хуррамабад»).
В речи ташкентцев – и русских, и узбеков – часто мелькает странное словечко – стовосьмой, или стовосьмая (написание порядкового числительного, конечно, «сто восьмой», в семантике же Ташкентского текста это слово выглядит именно так – стовосьмой). Так называли и называют до сих пор маргиналов-экстремалов: бомжей, пьяниц, проституток; также этот эпитет употребляется в качестве негативного в любом другом контексте – значит, плохой: стовосьмое кафе, стовосьмые туфли, стовосьмой дом и пр. «Вот это ташкентское словечко неизвестного происхождения… Хотя как-то в юности мне объяснили, что статья сто восьмая уголовного кодекса Узбекской ССР и была, кажется, предусмотрена за бродяжничество и проституцию… – неважно! В детстве оно означало у нас беспутную глупость, шалавую безалаберность и особенную дикую волю в поступках…» (из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы»).
Удивительную жизнь проживают некоторые слова. Стовосьмой – из этого ряда: опрошенные информанты (от 30 лет и старше) – все знают его фольклорную семантику, правда, «ташкентские москвичи», или «московские ташкентцы», удивляются, узнавая, что слово это, его ташкентская коннотация в России неизвестны. А семантический «кульбит» слова стовосьмой имеет следующий генезис: в Уголовном кодексе Узбекской ССР (в течение 1946–1954 гг., более ранние публикации в хранилищах библиотек отсутствуют – списаны за «ненадобностью», поэтому год рождения этой статьи УК автору неизвестен) была статья 108′, она гласила: «Повторное нарушение правил прописки паспортов и заменяющих их документов влечет за собою принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей. Проживание в местностях, где введена паспортная система, лиц, не имеющих паспорта или временного удостоверения и подвергшихся уже административному взысканию за указанное нарушение, влечет за собой лишение свободы на срок до двух лет».
«Классическая» логика между статьей и семантикой слова стовосьмой в Ташкентском тексте отсутствует, налицо – иная, фольклорная логика: «Он рухнул рядом на диван, сграбастал ее, стиснул. < …> – Дура стовосьмая!», – это говорит, с долей иронии, влюбленный мужчина своей избраннице (из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы»). В публикациях УК УзССР после 1954 г. такой статьи уже нет, а слово продолжает жить.
В Ташкенте часто каламбурят, рифмуют слова вне логической семантики, например: «танцы-шманцы», плов-млов, «Феллини-меллини… Чаплин-маплин…»; «Норвегий-Марвегий…», «Карабах-марабах»; «…лук-пук, масло-шмасло, мясо-размясо!»; «Опять непорядки? Опять реактив-шмеактив?»; «колбаса-малбаса, помидор-мамидор» (примеры взяты из художественных произведений Д. Рубиной, А. Волоса); на эту тему есть ташкентский анекдот: «Брежнев (Рашидову): Шараф, почему у вас в Ташкенте так странно разговаривают: чай-пай, базар-мазар?
Рашидов: Культур-мультур такой!» [Инф.: Нора А.].
Иной вариант концовки: «Э, что с харыпов взять – культур-мультур не понимают!» [Инф.: Медора Б.].
Энергией каламбура, идущего из глубин узбекского языка в симбиозе с русским, спроецирован и такой анекдот:
«Прилетает Брежнев в Ташкент. Навстречу идут люди:
– Ассалому алайкум!
Помощники подсказывают Брежневу, как ответить:
– Ва алайкум ассалом!
Через кордон прорывается единственный ташкентский диссидент и с вызовом кричит:
– «Архипелаг ГУЛАГ»!
Брежнев с понимающим видом:
– Гулаг архипелаг!» [Инф.: Алевтина Ш.].
Вот как описывает эту особенность русско-узбекского языка Михаил Книжник («Записная книга»): «В конце 80-х модно было присылать в Узбекистан врачебные бригады из России, якобы для помощи в летние месяцы. Называлось – врачебный десант. Доктор-реаниматор из Хорезма жаловался:
– Э-э-э… Какой десант?! Днем он не может работать, он попал в Африку, ему жарко, он умирает. Вечером он оживает, кушает дыню, утром у него понос, он умирает. Я его реанимирую. Какой десант-месант?!».
У узбеков большие праздники называются той/тўй – событие из области семейно-обрядовых практик, например, бешик тўйи – празднество по случаю укладывания младенца в колыбель; никоҳ тўйи – свадьба. В русской речи чаще со словом той ассоциируется обрезание, а также ироническое замечание по поводу грандиозной праздничной сходки.
На смену советским праздникам – «майским» и «октябрьским» – в Узбекистан 1990-х пришел Навруз/наврўз – мусульманский обрядовый праздник – день весеннего равноденствия; таким образом, и русские Ташкента стали отдыхать 21 марта и постепенно входить в органику этого действа: наводить в доме порядок, участвовать вместе со всеми, вскладчину, в сотворении сумаляка (сумаляк/сумалак – ритуальное яство: каша из пшеничного солода и муки), который начинают готовить накануне праздника Навруз: женщины всю ночь «колдуют» над котлами, готовя его по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Старые люди говорят, что только женщина с чистой душой способна сотворить это ритуальное блюдо; многие женщины стремились помешать шумовкой (капгиром) это коллективно создаваемое блюдо: по поверью, если она это сделает, то обязательно забеременеет. «…Я обожала надеть платье с карманами и в праздник Навруз ходить с узбечатами по домам – песни петь, получая за это что-нибудь сладкое» (из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы»).
Наврузка
Как прекрасен сумаляк
На Навруз да под арак,
Как шкворчит самса-тандыр,
Рифмой к «шашлыку» – «патыр»,
Как нацелен вдаль Темур,
Непреклонен, хром и хмур,
Как поет весной арык –
Все напомнит исырык.
Охранит в любой беде
Вздох Ташкента о тебе...
[Инф.: Медора Б.].
(Исырык/исириқ – «…это наша национальная чудодейственная травка, которую узбеки всегда жгут и дома, и в людных местах, на базарах и т. д., чтобы отгонять злых духов» [Инф.: Медора Б.]; в ботанике трава носит название гармала, ею окуривают помещение или открытое пространство, чтобы предотвратить сглаз.).
Лето дети проводили на тутовнике (тут) или у арыка; тутовник – тутовое дерево, шелковица, плоды – белые, красные, черные ягоды. Из рассказа бывшей жительницы Ташкентской области: «На рубеже 1950–60-х гг. в конце учебного года мы проходили трудовую практику: на лето домой нам выдавали спичечный коробок с червями шелкопряда, черви были длиной где-то в сантиметр; мы их складывали в большую коробку, устелив дно ватой и листьями тутовника – наша задача, учеников 4–7-х классов на каникулах, состояла в откармливании червей. Каждый день листья тутовника надо было обновлять – черви питались свежими, благо, тутовые деревья росли по периметру дома. Через месяц (или больше?) черви увеличивались сантиметров до 7–8 (могу ошибиться, это было так давно!). В какой-то момент они скручивались и наутро (никогда не могла зафиксировать этот самый волшебный миг) червей уже не было – на их месте были коконы, белые коробочки, легкие, казалось, пустые, чем-то напоминающие арахисовую скорлупу. (Иногда их надо было успеть обдать кипятком, чтобы червь изнутри не проел стенку – а вот когда, не помню.) Коконы мы относили на сборный пункт – принимали на вес – практика заканчивалась. Знать бы тогда, что мы наблюдали уникальное явление природы – рождение шелковой нити без вмешательства человека! Все воспринималось обыденно и заземленно» [Инф.: Неля З.].
Развлечение вокруг арыка – «экшен» ташкентского детства (об арыке я уже писала в статье «Ташкент Мелетинского» на сайте «Письма о Ташкенте»).
Что можно было делать «у арыка»? Мальчишки играли в лянгу и в ашички. Лянга, видимо, происходит от узбекского слова ланг – хромой, это фольклорный артефакт для мальчишечьей игры: кусочек меха с прикрепленным к кожаной стороне свинцовым слитком; лянга, подброшенная вверх рукой, как мячик, подталкивается удар за ударом ребром стопы – кто дольше «продержит» лянгу в «прыгающем» состоянии – тот побеждает. Фольклорный дискурс: «Учителя и родители гоняли мальчишек, играющих в лянгу, предупреждая и угрожая, что будет грыжа. У нас во дворе и девчонки играли» [Инф.: Zimmermann]. А ашички (от ошиқ) – это косточка из коленного сустава задней ноги барана, теленка. Заметьте, что российская публика не знает ни лянгу, ни ашички (!). Гордись, Ташкент, это твои артефакты!
Девочки играли иначе – прихорашивались: подводили брови усьмой; усьма/ўсма – краска растительного происхождения. «Целыми днями деятельно наводили красоту: выдавливали на донышко пиалы сок из листьев усьмы, макали в него спичку с накрученной ваткой и рисовали брови “чайкой”. Брови были зелеными, прекрасными, заползали на виски…» (из романа Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы».
Все русскоговорящие в обязательном порядке изучали (изучают) в средней школе узбекский язык. Предмет «узбекский язык» – обязательная учебная дисциплина. В советское время в русских школах преподавали его по образу и подобию литературных персонажей XVIII – XIX вв. – учителей-иностранцев: фонвизинского Вральмана, пушкинского мосье Бопре и проч. Из бытового рассказа, который можно назвать фольклорным, т. к. такой текст узнаваем и довольно распространен: «Мне неизвестен ни один ученик той советской поры, который бы выучил узбекский язык по окончании школы – собственно, никакой методики преподавания не существовало, да и учителями этого предмета были случайные люди. Знали узбекский язык те немногие не-узбеки, которые с детства жили внутри махалли среди носителей языка. А вот ташкентские узбеки в большинстве своем говорили по-русски правильно – в советской повседневности существовал такой дидактический стереотип для узбеков: “Хочешь выйти в люди, иди в русскую школу”» [Инф.: Нора А.].
Узбекских школ, тем не менее, в Ташкенте было не меньше русских. Все изменилось после обретения Узбекистаном самостоятельности: русские школы стали постепенно сворачиваться, русский язык – уходить из официального поля, из торговых ярлыков и пр. А вот узбеки, когда говорят не только по-русски, но и по-узбекски, свой катык (простоквашу) называют кислым молоком, универсальным «многопрофильным» продуктом: из кислого молока приготовляют не только множество блюд, но и употребляют в бытовых целях. Из фольклорного рассказа: «Во времена, когда не было шампуней (думаю, что и сейчас), узбекские женщины мыли свои длинные косы кислым молоком – вместо шампуня, это было питательно, возможно, оказывало эффект современных кондиционеров для волос, однако при частом употреблении давало и не совсем приятный, специфический запах» [Инф.: Нора А.]; «Перед многими городскими банями-хаммомами когда-то (в моем детстве) сидели на земле узбечки и продавали катык для мытья волос. Шел бойко» [Инф.: Медора Б.]; узбечки шли из предместий в город и, подходя к домам, в 6–7 часов утра зычно, растянуто выкрикивали: «Кислое молоко!». Фонетически точно это передала Дина Рубина: «Моль-лё-коу! Кислий-пресний мол-лё-ко-у!... Кисляймляка! Кисляймляка» (из романа «На солнечной стороне улицы»).
В условиях би- и полилингвизма неотъемлемым качеством языка повседневности становится интерференция – ошибки в чужом языке (русском в нашем случае), спровоцированные органикой родного языка: «Издрасти…», «Молчи, блад! < …> Погода, блад, опять плохой. Опять, блад, погода нелетный…», «Пилять!» (из романа Андрея Волоса «Хуррамабад»). А Сухбат Афлатуни намеренно создает абсурдистский перифраз русской поговорки, сталкивая две разные нестыкующиеся ментальности: «Пусть на твоей дороге скатерть валяется» (из повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки»), что в русском языке соответствует поговорке – «Скатертью дорога».
Анекдот: «Встречаются русский и узбек. Один грустный, голову повесил.
Русский: Что с тобой?
Узбек: Мой жена гуляет.
Русский: не мой, а моя.
Узбек: Ну что твоя – это все знают, я говорю про мой» [Инф.: Валентина Л.].
На базарах Ташкента в 1990-е гг. «по-черному» конвертировалась валюта. Менялы, полувыкрикивая-полушепча, произносили: «Меняем доллар, расиськи!», то есть российские рубли.
Обсценная лексика приживалась особенно хорошо – как в русском – узбекский мат, так и в узбекском – русские ругательства: «Наконец старшая женщина закончила долгую тюркскую речь русским “сволочь” и замолчала…» (из повести Сухбата Афлатуни «Ташкентский роман»). Из бытового рассказа: «Идет “пулеметная” очередь узбекского мата и последнее слово – “тэварр!” (тварь)» [Инф.: Валерий А.].
Для русского ташкентского языка характерно употребление эндемиков и ойкотипов. Эндемики – слова, характерные для данной местности, отдельного этноса (для «внутреннего пользования»), не имеющие широкого хождения. Ойкотипы – прецедентные тексты, характеризующие речь определенного ареала. Языковое поле Ташкента много шире конкретной географии города. Русский язык Ташкента – это, по сути, русский язык Средней Азии. Такой язык воссоздан, например, А. Волосом на литературном примере города Хуррамабад – это условный среднеазиатский город, хотя с явными реалиями и аллюзиями на Душанбе («хуррам» – по-таджикски – веселый, жизнерадостный, цветущий; «абад» – город). Восточный текст таджикского Хуррамабада сродни ташкентскому, так как то административно-географическое деление на республики, которое было проведено в 1920-е гг., искусственно: достаточно взглянуть на карту, где границы проводили будто линейкой. О том же говорят и рассказы старожилов этих регионов, которые помнят, как им заполняли «пятую графу» – не по происхождению, а по тому месту, в котором оказывался получатель паспорта, особенно это касается жителей Бухары, Самарканда, где проживало много и поровну таджиков и узбеков. «Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации», – иронично заметил ерофеевский Веничка («Москва – Петушки»).
В ташкентской, или среднеазиатской, русской речи обильно представлены тюркизмы – этот феномен воспроизведен в современной литературе (Диной Рубиной, Андреем Волосом, Сухбатом Афлатуни). Наличие тюркизмов в литературе не может маркироваться как ориентальный экзотизм, этнографические «штучки», это одна из составляющих русского языка данного региона.
В узбекской речи проявляются характерные для местной ментальности гостеприимство и доброжелательность. Но истинные свойства превратились на повседневном уровне в стереотипное, а потому несколько «обездушенное» поведение, с выраженными фатическими, неинформативными, признаками. Фатические маркеры обеспечивают успешность коммуникации: «Синяя женщина вскочила обниматься… закружила ее в приветственном танце объятий… под ритмичное яхши-мы-сиз, тузук-мы-сыз (как-поживаете-как-ваше-здоровье), тра-та-та-та-та-та-мы-сыз…» (из повести Сухбата Афлатуни «Ташкентский роман»).
В 1990-е гг. ташкентский официоз перешел на латиницу, приведшую к полному хаосу, неразберихе: помню, останавливает меня старик узбек: «Дочка, прочитай, что здесь написано, ищу аптеку». Дорихона, аптека, – слово, ставшее в виде привычной вывески графическим атрибутом Ташкента. Из бытовых рассказов: «Когда в середине 1990-х Узбекистан перешел на латиницу, появились странные надписи-гибриды – дело в том, что некоторые буквы из кириллицы были оставлены: DORIXONA – иностранцы читали: дориКСона, и были правы!» [Инф.: Нора А.]; «Я так долго не могла привыкнуть к этим надписям на аптеках, первое время то и дело вздрагивала: понимаете, у меня фамилия – Дорохина…» [Инф.: Вероника Д.].
С середины 1960-х до вступления Узбекистана в рамки самостоятельного государства в Ташкенте была «кузница» кадров по подготовке учителей русского языка и русской литературы – УзРПИРЯиЛ (Узбекский республиканский педагогический институт русского языка и литературы); к сожалению, мощный поток «ковки» плодил в большом количестве и «горе-специалистов». В институте была «специализация» по этническому принципу: для будущих учителей в казахской школе («нацфак», или просто «Н»), в узбекской школе («узфак», или «У») и факультет широкого профиля, где учились выпускники русских школ (студенты называли факультет «ширпыр»). В 1980-е гг. на главном корпусе (где находился ректорат) висел большой плакат, извещающий о том, что «в нашем институте говорить можно/нужно только по-русски» за подписью ректора (доктора филологических наук, профессора Щегловой Галины Николаевны). Раз я наблюдала такую сцену: вышедшая из «ректоромобиля» Г.Н. Щеглова шла по аллее ко входу в здание, на ее пути стояли студенты, что-то шумно обсуждавшие по-узбекски; остановившись, ректор сделала им внушение: в нашем институте говорить можно только по-русски, если еще раз замечу …
А говорили по-русски «специфически» – так, был прецедент, думаю, не один, когда полуграмотные «филологи» двигались по карьерной педагогически-административной лестнице: один из них повар из институтской столовой, получивший диплом alma mater «заочно» – не отходя от котла – и начавший «учить» падежи вместе со студентами, правда, последние преуспели явно больше, так как от них довелось услышать негодующе-комические реплики, мол, преподаватель (повар) сказал, что вопросы творительного падежа звучат так: кеми – чеми! Такую же карьеру проделал бывший водитель ректора, учившийся по схеме: «солдат спит – служба идет», или: крутишь баранку, а зачетка заполняется сама собой. Ныне занимает одну из руководящих должностей в вузе, пишет учебники (!).
А однажды профессор Р.М. Вайнтрауб, принимавший выпускной экзамен у студентов «широкого профиля» (!), с ужасом и растерянностью показал мне отнятую им у студента шпаргалку: на листке были написаны падежи и вопросы к ним; я не сразу поняла, в чем «криминал», так как написано было все правильно. «Но ведь это же выпускники! Они проучились 5 лет!», – сказал Р.М.
Судьба русского языка, в зависимости от пространства обитания, как видим, совершает неожиданные кульбиты – почти по логике «хотели как лучше, получилось как всегда»: в 2007 г., приехав в Ташкент после десятилетней отлучки, я с удивлением обнаружила, что нынешняя молодежь (надеюсь, не вся!) не говорит и не понимает по-русски. Я искала на базаре в Старом городе всевозможные узбекские артефакты и «носителей» ментефактов – каландаров, или дервишей, помню, не так давно окуривавших от сглаза лавки торговцев при помощи специальной «сковородки» с вожженным исырыком. Обращаясь к молодежи, я столкнулась с «немцами» – меня не понимали, одна девушка, сердобольная, пошла и привела старого узбека, который и разрешил все мои проблемы. Видимо, старые ташкентцы-узбеки – это последние «могикане» в городе. Проезжая на такси по прежней улице Шота Руставели, я заинтересованно искала указатель: осталось название или нет? Спрашиваю у молодого водителя: это улица Шота Руставели? Ответ: бельмайман, не понимаю. Потом вижу вывеску: «Шота Руставели кўчаси», правда, латиницей, – успокоилась; спрашиваю водителя, а Вы что, приезжий? Говорит, что нет, местный, ташкентский. Я выразила удивление: как же так, не знать название центральных улиц? Спрашиваю, а знаете ли кто такой Шота Руставели? Ответ: нет. Веду просветительскую деятельность в «полевых условиях». Спрашиваю, а каких русских писателей знаете? Ответ: Пушкин (поистине, не только «наше», «всеобщее все»!). Я: а где памятник, знаете? Ответ: там где «горький майдони» (площадь Горького; этого топонима в официальной топонимике Ташкента уже нет). (Памятник Горькому давно вывезен на задворки «Литературного» института, когда водитель лежал в люльке/бешике, но «дело» его – Горького – живет.) Спрашиваю: а кто такой Горький? Ответ: бельмайман. Тем не менее, рекламные щиты выполнены посредством русско-узбекского слэнга – запомнился такой: русскоязычная реклама пива – «Гламурный “Гап”», где обыграно узбекское слово гап (разговор, беседа), активно употребляемое в русском языке.
Я уезжала из Ташкента в середине 1990-х гг., когда не только русские, но и узбеки ничего не понимали в тех процессах, которые творились в рамках языковой и графической реформы (переход на латиницу): вместо принятого во всем мире нерусского слова «экспресс» вдруг появились автобусы с надписью «тез юрар» – быстро бежит, вместо «аэропорт» – странное метафорическое сочетание (поди разгадай загадку!) – «хаво йуллари». В связи с последним ходила байка (может, у нее были реальные «ноги»): якобы официальное название вначале имело такой порядок слов: Хаво Узбекистон Йуллари, но, одумавшись и увидев, как звучит аббревиатура, «творцы» реформы поменяли порядок слов на: Узбекистон Хаво Йуллари.
Хотя мороженое по-прежнему и в речи узбеков называется «морож’еный», на упаковках пишут «музқаймоқ» – «ледяные сливки»; в период перестройки, когда вдруг в магазинах появились экзотические товары, увидела над специальной раковиной ярлык с надписью: «БД», так отозвалось непонятное «биде». Воистину «велик и могуч» «русский языка».
А вот уникальный постмодернистский языковой срез:
– Fuck you!
– Э! Наезжать киласанми?» (форум: Фергана. ру).
Список информантов
Zimmermann Elena, 1959 г., живет в Германии, по образованию журналист.
Алевтина Ш., 1965 г., живет в Москве, по образованию филолог.
Алексей Л., 1973 г., живет в Ростовской области, фермер.
Валентина Л., 1939 г., живет в Ростовской области, по образованию филолог.
Валерий А., 1973 г., живет в Москве, по образованию журналист.
Вероника Д., 1972 г., живет в Ташкенте, по образованию музыкант.
Володя Ч., 1952 г., живет в Ташкенте, по образованию филолог.
Медора Б., 1950 г., живет в Ташкенте, по образованию филолог.
Неля З., 1948 г., живет в Томской области, военнослужащая.
Нора А., 1948 г., живет в Москве, по образованию филолог.
Павел Ш., 1947 г, живет в США, по образованию журналист.
=========================================
Альманах "Письма о Ташкенте"
Источник: http://mytashkent.uz/2008/04/30/russkiy-yazyik-tashkenta-folklorno-mifologicheskaya-povsednevnost/ |